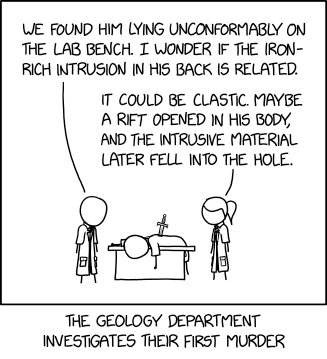https://mi3ch.livejournal.com/6158888.html

Почему «Моби Дик» был написан именно в середине XIX века? Дело в том, что именно в это время добыча китов достигла своего максимума за всю предыдущую историю человечества (этот сомнительный рекорд будет побит через сто лет, но об этом чуть позднее).
Синие киты и кашалоты стали для моряков золотой жилой. Невероятно ценился спермацет кашалотов — воскоподобное вещество, которое содержится в огромном фиброзном мешке (спермацетовом органе) в голове кашалота. Ранние китобои по ошибке принимали его за сперму, отсюда и название.
Свечи и масло из спермацета горели невероятно ярко, почти без дыма и неприятного запаха, в отличие от свечей из животного сала. Свет от спермацетовой свечи был настолько стабильным и ярким, что он стал первым фотометрическим стандартом. Единица силы света (кандела) исторически происходит именно от яркости такой свечи. Спермацетовое масло было лучшей смазкой для часов, швейных машин и ранних промышленных станков. Оно не замерзало на холоде и не густело.

Спрос был огромен и он породил гигантскую индустрию. Сотни кораблей бороздили океаны от Арктики до Антарктики. Корабли были плавучими фабриками: туши разделывали прямо в море, а жир вытапливали в огромных печах на палубе. Популяции кашалотов, а также других китов (например, гренландских, которые давали другой тип жира — ворвань), были на грани уничтожения. Китов стало так мало, что рейсы становились все длиннее и опаснее (здравствуй, капитан Ахав), а цена на китовый жир взлетела до небес.
Спасло китов от полного уничтожения два научных открытия. В 1840-х годах канадский врач и геолог Абрахам Геснер научился получать из угля и битума новое горючее вещество. Он назвал его керосином (от греческого keros — воск). Керосин горел чисто и ярко, но процесс его получения был еще дорогим. Настоящая революция произошла в 1859 году, когда полковник Эдвин Дрейк пробурил в Пенсильвании первую коммерчески успешную нефтяную скважину. Оказалось, что керосин гораздо легче и дешевле производить из сырой нефти, запасы которой казались безграничными.

Вот как журнал Vanity Fair проиллюстрировал это событие в 1861 году: киты празднуют открытие нефти в Пенсильвании.
Рынок отреагировал мгновенно: в конце 1850-х галлон китового жира стоил около $2,50, а галлон керосина стоил всего 40 центов. Не нужно было больше отправлять флотилии в рискованные экспедиции. Нефть просто качали из-под земли, а керосиновые лампы давали ровный и яркий свет. К 1870-м годам керосин практически полностью вытеснил китовый жир с рынка освещения. Китобойная промышленность, лишившись своего главного рынка сбыта, рухнула. Промышленная революция, которая создала спрос на смазку из китов, в конечном счете их и спасла, породив нефтехимию, а потом и электроэнергетику.
Но в ХХ веке выжившие киты попали под новый страшный удар. Который тоже был связан с промышленной революцией. Спрос на китов сместился с освещения и смазки на пищевые жиры, промышленные масла и кормовую муку. Химики научились гидрогенизировать китовый жир — превращать жидкие жиры в твердые.
Китовый жир стал идеальной и дешевой основой для производства маргарина. В первой половине XX века Европа переживала бум потребления, и спрос на дешевые жиры был колоссальным. Маргариновые заводы в Британии, Германии и Голландии (здравствуй, компания Unilever) стали крупнейшими потребителями китового жира в мире. Этот же твердый жир стал основой для массового производства мыла.
Во время Первой и Второй мировых войн из китового жира добывали глицерин, который был необходим для производства нитроглицерина и динамита. Китобойный промысел стал стратегической отраслью. Остатки китовой туши перемалывали в муку, которая использовалась и как высокобелковый корм для скота и птицы и как удобрение. В некоторых странах, особенно в Японии и Норвегии, китовое мясо стало важным и дешевым источником белка, особенно в голодные послевоенные годы.

Еще в XIX веке была изобретена гарпунная пушка, которую потом сильно модернизировали. Она стреляла тяжелым гарпуном с разрывной гранатой на конце. Гарпун не просто ранил кита, он взрывался внутри его тела, убивая практически мгновенно. Это позволило охотиться на самых быстрых и крупных китов — синих китов и финвалов, которые ранее были недоступны для китобоев на вельботах. Вместо медленных парусников появились быстрые и маневренные пароходы (а затем и дизельные суда), которые могли преследовать самых быстрых китов.
Появились плавучие китобойные базы размером с танкер, выходившие в океан в сопровождении флотилии небольших и быстрых судов-охотников. Охотники убивали китов гарпунными пушками. Затем с помощью воздушных компрессоров туши накачивали воздухом, чтобы они не тонули. Затем их буксировали к кораблю-базе. На палубе, как на конвейере, десятки рабочих разделывали тушу за несколько часов, сразу же перерабатывая жир, мясо и кости.
За XX век было уничтожено гораздо больше китов, чем за всю предыдущую историю. По приблизительным оценкам, было убито около трех миллионов китов. Популяции самых крупных видов были доведены до грани полного исчезновения — 95% всех синих китов было уничтожено.
Эта бойня прекратилась уже по другим причинам. Китов стало так мало, что их поиск превратился в очень дорогое и нерентабельное занятие. Промысел уничтожил сам себя. А развитие химической промышленности (особенно нефтехимии) и сельского хозяйства (соевое и пальмовое масло) предоставило более дешевые альтернативы маргарину и промышленным маслам.
Не последнюю роль сыграло и экологическое движение в защиту китов. Фотографии и видеозаписи жестокой охоты, песни китов — всё это вызвало волну общественного негодования по всему миру. Международная китобойная комиссия (IWC), под давлением общественности и научных данных о катастрофическом состоянии популяций, ввела мораторий на коммерческий китобойный промысел, который вступил в силу в 1986 году.
https://mi3ch.livejournal.com/6158888.html